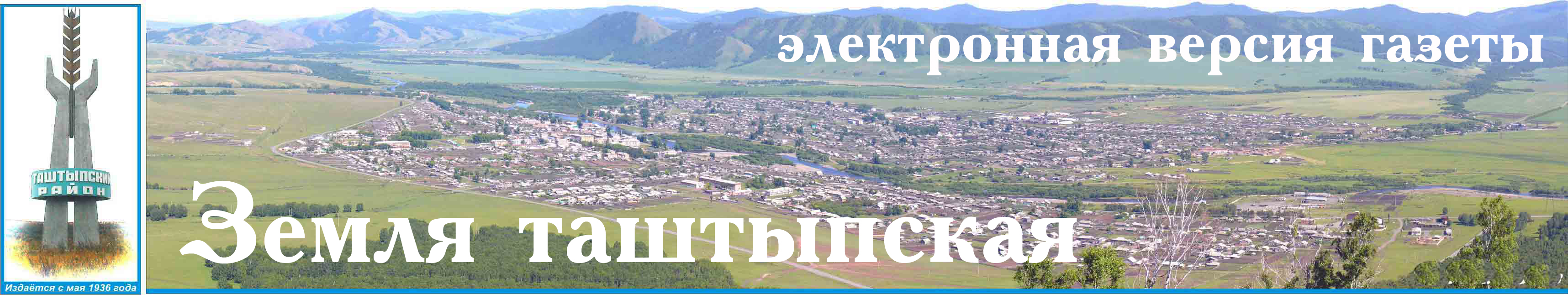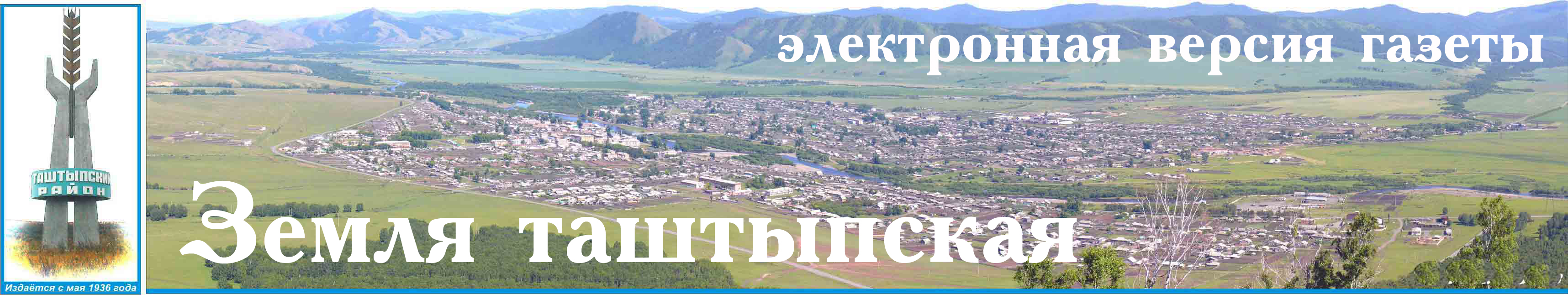Наталья Ковалева
Сладка ягода – рябина
 – Как? Не пускаете? – Мишка огляделся, но матери и в самом деле не было. – Почему? – Как? Не пускаете? – Мишка огляделся, но матери и в самом деле не было. – Почему?
На соседку шикнули и она заговорила о другом.
– Ну, что Миша, выносить пора? Половина третьего уже. Так-то в час бы вынесли… Или посидишь?
– Да, – неопределенно ответил парень.
И тотчас же засуетились, завыли женщины, мужчины подняли гроб на плечи, разом загудели машины в совхозном гараже, Мишке захотелось зажать уши:
– Что они? Что? – спрашивал он всех и никого.
– Так Степаныч шофер от Бога был, как не проводить.
И до самого кладбища гудели надрывно и горько сигналы, глотал слезы Мишка, и шел, как во сне, за отцовским гробом.
Отчего-то только на похоронах и становится вдруг известно, кем же был на самом деле покойный. Тишайший Колька Дьяков был мужиком. И это на нём держалась вся совхозная техника. «За какой руль посадишь, за тем и король!» – врезалось в память. Король… Его отец… И пока поминали, не жалея ни слов, ни водки, Мишка все больше понимал, кого он потерял и плакал пьяно оттого, что уже никогда он не сможет рассказать отцу об этом опоздавшем уважении.
А утром другого дня, когда посуда была перемыта, а остатки обеда розданы, тётя Зина подсела к Мишке и, глядя в пол, спросила:
– Что с Танькой-то делать? Идти им некуда. Может, в дом пустишь? Поживет здесь, пока служишь. С ребенком она, видишь…
Мишка открыл рот, да и подавился словами, но соседка сама продолжила:
– Девчонку прижила от Андрюхи Дьякова.
Назови тогда тётя Зина другое имя, может быть, и стерпел бы – мать всё-таки. Но от родного брата? Это какой же сукой надо быть? Мишка схватился за бритую под пилотку голову, и попытался еще угнездить в ней абсурдную мысль.
– Дядя Андрей… – прошептал.
– От него, вот Колька и не выдержал. Кончилась терпелка. Пусть земля ему…
– Где? Она? – хрипнул Мишка, ворот форменной рубахи даванул петлёй, рванул что было сил. – Где?
– За озером прячется, в балагане покосном.
Летел к озеру, не помня себя, и когда распахнул просевшую дверь, Дьячиха поняла всё. Отступила к полатям, выхватывая какой-то кулек, загораживаясь им. Мишка увидел сморщенное личико ребёнка, красное, безобразное. Отвращение полохнуло дурно. Вырвал сверток и шмотырнул бы об угол. Но кулек вдруг ожил, заворочался в руке и не закричал. Мишке хотелось воя, крика, чтоб визжала Дьячиха, заходилось криком это живое полено, затянутое в пеленки, Мишка тряхнул его сильнее.
– Ори! – потребовал.
– Немая она, – всхлипнула мать…
– Немая? – Мишка вдруг скис, опустился на полати и уставился на девчонку, только теперь разглядев слезы на длинных ресницах.
– Живите в доме, – сказал, будто только за этим и шёл.
Мог ли Мишка Дьяков всё вот это рассказать? Всю жизнь он бежал из Кураевки. За два перевала спрятался, укрылся, уехал к черту из родного дома за полтысячи километров. Открестился. Ни к чему людям знать, откуда он родом и кто его мать. Томка и та знала далеко не всё. Не смог. Срезал прошлое, как лишнюю пуговицу. Видно не совсем. Мать – это, как кусок собственной плоти, без боли не вырвешь. А вырвешь, будет вечно напоминать о себе пустотой у самого сердца.
Кровь родная – не водица… А в его жилах дурила шальная кровушка Таньки Дьячихи. И это она гнала его в Кураевку через два перевала к той, кого и ненавидел люто и к кому так же люто тянуло вернуться. И не было силы, чтоб оказалась мощнее этого зова. Точно пуповина, не оборвалась еще при рождении и связывала их до сих пор. Не будь этой «стальной» связи, не метался бы Мишка по точкам и стоянкам в поисках сестры. Не дурел бы от страха, что вдруг вызовут в милицию и сообщат, нашли мол в карьере или кювете тело Натальи Дьяковой.
Ташка, Ташка, рожденная в грехе, ненужная даже матери, была остро необходима Мишке, потому что оба они плоть от плоти Таньки Дьячихи. Родная кровь.
– Ты, Дольфа ищешь? – окликнул Дьякова резкий, какой-то жестяной голос.
Мишка вздрогнул, только сейчас понял, что стоит он у чужой машины и даже за ручку уже уцепился, чтоб открыть дверь.
– Кого?
– Саню. Дольф – это кликуха. В шашлычную иди. Там.
Почему Саня носил звучное прозвище Дольф, Мишаня понял сразу. Высокий, жилистый, он походил на Дольфа Лундгрена так, что вполне мог бы выступать в конкурсе двойников. Та же белобрысость, те же глубоко посаженные глаза, узкие губы, бугристые скулы… Вот только мужественную внешность героя боевиков Саня изрядно измочалил по сибирским трассам. Уже ползли по физиономии, точно резцом проложенные, морщины, заметно поредели волосы, и характерная сутуловатость человека, не один год проведшего за рулем, давала себя знать.
– Ты Саня? – напрямки спросил Мишка, присаживаясь за столик.
Мужик поднял глаза в красных прожилках и улыбнулся:
– Я самый, – в голливудской улыбке остро не хватало двух передних зубов.
– Михаил, – представился, размышляя с чего же начать разговор.
– Если «дров» спросить, то нету. Полбака отлил томичам. Не знаешь, что за ерунда с заправкой?
– На ремонте до сентября. Да нет, соляры – помойка. Ты, говорят, на точках всех девок знаешь, – в лоб озадачил Мишка.
Но Дольф не озадачился.
– От Новосиба до Читы, всех, а дальше не пускают, – осклабился мужик. – Чего, рекомендацию выписать?
– Типа того, вот, – Мишка бережно положил перед ним фотку Ташки. – Не видел?
Саня глянул мельком, перевел взгляд на Мишку и отодвинул фотографию:
– Таких среди плечёвок нет. Ей бы иностранцев обслуживать. Нашему брату и тухлое мясо сойдет. Видел, у Черногорки деваха с ожогом на всю морду стоит? Ничего, берут за полцены. Эх, сколько я их.
Но Мишка уже потерял интерес к собеседнику. Поднялся из-за столика.
– Сестра? – толкнуло в спину.
Дьяков не успел соврать:
– Да… Потерялась, месяц уже ищем…
– Похожа… Мать, наверное, с ума сходит?
Мишка отмолчался.
– У меня брата в цинковом гробу привезли, я следом ходил за мамкой полгода. Думал, повешается или таблеток наглотается. Да-а-а-а.
И не спрашивая, пододвинул Мишке свою стопку. Он махнул её залпом.
– Я бы такую запомнил. Красавица, молодая совсем. Школьница?
– Нет, – выдавил Дьяков.
– Значит студентка. Им, говорят, девчонки ближе сыновей. Матерям, в смысле.
– Ближе, – эхом отозвался Мишка.
– Еще и поздняя, видно?
– Поздняя…
– Отец жив?
Дьяков глянул исподлобья, чувствуя, как разбредается по жилкам алкоголь.
– Повешался.
И опять поднялся, чувствуя, как же хочется вот сейчас вылить на голову этого Дольфа всю правду. Зачем? А ни зачем. Устал её, как прицеп за собой таскать. Но Саня даже бровью не дёрнул.
– Ясно, один ты у неё значит?
– Значит, – хмыкнул Мишка. – Спасибо, браток.
Но браток точку в разговоре не принял, то ли поболтать хотел, а то ли и в самом деле понимал сейчас Мишку.
– Вот что, так не найдешь. Трасса и тайга прятать умеют. Она когда пропала?
– Шестнадцатого июня. Из Кураевки вышла к трассе.
Саня присвистнул:
– Из Кураевки? Деревенская… Что её понесло-то?
– Ко мне она ехала, понимаешь?. Ко мне? – выкрикнул так, что посетители оглянулись. – Срезать хотела. Через лес. Это на сто двадцатом километре, здесь считай, вышла, а потом…
Мишка махнул рукой.
– К тебе это куда?
– В Берёзовое, через Сибирск.
– Шестнадцатого, ты по конторам помотайся в Сибирске, узнай, кто в этот день шел через перевал. Вспомнят, в документах есть. Что там в Сибирске? Костюнин, Труфанов, Гальский всего-то грузоперевозчиков. Вот и спроси. А ты сам чей?
– Труфановский.
– Остались двое, не откажут, такое дело, сестра… А потом мужиков и тереби. И береги мать, она сейчас…
– Да по хрену матери! – взвился Мишка. – Пьет она! Понимаешь ты? Пьет!
И уже не сдерживаясь, вдруг вывалил все разом: и про мать, и про отца, и как гудели машины, и про то, как чуть не зашиб Ташку там, у озера. И даже про то, что тянуло душу более всего, как оттолкнул руки сестры, прощаясь, у матери, навсегда оттолкнул?
Дольф слушал со странно каменным лицом и было неясно, почему не пошлет он Мишку куда подальше. А Дьяков уже не мог остановиться. Ему всё равно стало, как поймет, поймёт ли. Покурили молча. Мишка уже за молчание это был благодарен. Но Саня вдруг спросил:
– У тебя фотка еще есть?
– Есть. Три еще и в телефоне.
– Я эту возьму. Размножу. Своим раздам. Один ты не отыщешь…
Дьяков сжал Санину пятерню:
– Спасибо, браток.
– Да, ладно, – отмахнулся Дольф. – А мать.Что теперь, какая есть. Другой уже не выдадут.
Глава двадцать третья, где Томка рассуждает о пользе и вреде власти
Вечер гас тихо, неторопливо, точно ни в какую не хотел покидать землю, продрогшую от долгих дождей. И на нем, первом, солнечном за всю череду слякоти, лежит особая задача – отогреть. Он топтался на краю гор, заглядывал в темнеющее небо, изо всех сил стараясь удержать короткую июльскую ночь. Но небо наливалось густым черничным киселем, давя неумолимо, сумерки гасли, рассыпались звездами, вытягивались еле заметной белесоватой дымкой. И вместе с сумерками отступала армия привычных вечерних шумов. Уже не мычали тягуче запоздавшие буренки, не хлопали калитки стаек, над полями не неслось устало и обреченно:
– Зорька, Зорька, Зорька-а-а-а…
Даже монотонный и тяжелый, исполненный собственной важно-стью гул машин стал совсем другим и то и дело празднично и радостно взрывался певучими гудками, разухабистым шансоном, не до конца пережеванным акустикой легковушек. Шины по асфальту уже не шуршали, а свистели, а скрип тормозов обрел фасонистость и кокетливость, совершенно необходимую вечером, когда нога молодого водилы бьет по тормозу с размаху, чтобы остановиться совсем рядом с хохочущей стайкой девчонок. Изредка всплывал в этой радостной перекличке свист, но тут же и пропадал, пристыженный разнокалиберными гудками, шорохом дорогих, и не очень, шин. Не модно нынче к девушкам пешком ходить.
А впрочем, впрочем, все оставалось таким же, как и пятнадцать лет назад. Потому как вся эта армия звуков, точно так же, как и десятки лет назад, с каждым мигом наливалась молодостью, силой, острым запахом неистраченного чувства, потаенной нежности, открытого флирта, беззастенчивого разврата. А ночь, как и прежде, прятала от посторонних глаз все, что надо таить, и выставляла напоказ то, что надо высветить. И, как прежде, заставляла юные сердце биться чаще.
Время вечной затаенной зависти у всех, кто уже круг молодняка покинул, кому не светят посиделки за воротами, надрывные всхлипы сигналов, кого не должны волновать взгляды мужчин из-за приспущенного окна машины. Не должны, а волнуют. Будто каждый раз напоминают: «Бабья дорога от печи до порога…», и за порог, да еще и в темень – ни-ни. От полночи и до света – время молодых. Только кто же знает когда кончается молодость?
И всё же Томка любила ночь, точнее самое её начало, когда уже спали малыши, а до прихода Бориски оставался еще час или два. Нет, ждать его не обязательно – сын отирался возле Семеновых, сидели на лавочке с Юлькой, это ж вон, десять метров и, если прислушаться, сквозь летние окна можно услышать их смех. Борис слово, данное матери, еще лет в двенадцать, когда впервые ночная улица стала манить мальчишку, держал и от семеновского забора не отлучался.
Тамара извлекла из холодильника батарею трехлитровых банок, пластиковых бутылок, заполненных молоком и обрадовалась, что отпустила сына сегодня погулять подольше. Есть время молоко пропустить. Слила его в ведро и ткнула греть, на долю минуты залюбовавшись, как вспыхнул ровненькими голубыми язычками газ. Воровато озираясь, досталась припрятанную клубнику. Подержала её на весу, точно решаясь на что-то очень трудное, и раздавила. По комнате тут же поплыл густой солнечный запах. На ладошке же смешала со сливкам, торопливо намазала лицо, и только потом щелкнула выключателем, заливая кухню жестким электрическим светом. Засуетилась, собирая сепаратор. Старый, с огромной ведерной чашей, агрегат работал исправно. Сливки выходили на славу, они уже через сутки становились такими густыми, что хоть ножом режь. Правда, и разогнать его стоило изрядных усилий.
Мерное жужжание сепаратора Томку успокаивало, как наполняет тишиной и покоем, наброшенный на плечи пуховый платок, не надо никуда бежать, суетиться, бояться не успеть, можно просто неспешно крутить ручку, подпевая мягкому тенору сепаратора.
– Ой, то-о не вечер, то не ве-е-ечер, мне-е-е малым мало спало-ось, – начала не громко.
Мощным голосом Господь её обделил, но наградил его особой мягкостью, даже нежностью тембра, с избытком плеснул глубины и чувства. Она пела, всякий раз точно рассказывая, кому-то очень близкому, то ли о себе, а, то ли о чем-то важном, что словами не объяснишь. Пока на свет не появился Денька, еще пела она всё то, что успела запомнить, ухватить от бабушки, а та – от своей бабушки. В роду Рябининых все голосистые были. Только где сейчас тот род? Раскидала жизнь.
За дверью вдруг загрохотало, будто кто-то опрокинул пустое ведро. Томка вздрогнула. Но тотчас же все и стихло.
– Бориска? – окликнула женщина.
Тишина. Ухватила у печки литую кочергу, тяжелую, основательную, как все в Дьяковском хозяйстве.
– Кто там? – и крикнула в пустоту комнат. – Миша, иди глянь!
Дверь приоткрылась осторожненько. Раздалось пьяное и виноватое:
– Тома-а-а-а… Я это… Ну…
– Кто я?
По ту сторону явно затруднились с собственным наименованием. Тома на всякий случай основательнее захлопнула дверь.
– Ну, Труфанов.
– Вы?! Александр Федорович? – дверь тут же скрипнула, пропуская нежданного гостя.
– Не прогонишь? – рослая фигура нарисовалась в проеме. Потопталась на пороге...
– Да, что же вы, нет же, заходите.
– Пьяный я, – сообщил Труфанов, по-детски наивно и открыто, разводя руками, ну мол, вот, бывают и со мной такие недоразумения. – А машину на стадионе бросил.
– Да, заходите же, – Томка потянула Мозгуя за руку. – Я с молоком закончу.
– А я мимо иду, смотрю, свет… – мужчина пристроился на край лавки у сепаратора. – Свет же горел?
– Горел, – подтвердила Тамара. – Вы бы может на стул куда… Задену еще.
– Нет, я тут посижу…
Он смолк, но женщине отчего-то показалось, что Мозгуй не договорил. Но подтолкнуть не решилась. С того памятного объяснения на поляне, меж ними точно кто-то натянул до звона струну и ходили они боясь задеть её, чтоб не раванула по Березовску ненужным звоном. Заходить в гости он практически перестал, а если и забегал, то Тома тут же находила заделье во дворе или стайках, оставляя Труфанова неловким заботам Бориса…
– Я вот что, Тамара, – начал Мозгуй сам и смешался.
И эта его неловкость, такая неуместная, невяжущаяся ни с самим Труфановым, ни с тем, что слышала о нём Тома, смущала её еще больше…
– Я вот что… Ты бы простила меня, что ли? Давно хотел, черт знает что, бывает… и у меня
Он перебирал слова, путался тяжело, точно продираясь через лесную чащу и Тамара не выдержала:
– Да, что там, Александр Федорович, я забыла уже.
– То-о-очно? – протянул он и поднял на хозяйку глаза. Недоумение пьяное, а потому и слишком очевидное, вдруг проступило разом на его лице. – Маскируешься?
И засмеялся, заливисто, озорно. Вот тут Томка и вспомнила про бело-розовую кашицу на лице. Впрочем, кашица уже впиталась, остались лишь яркие разводы, бесформенные, похожие на таинственные наскальные рисунки, каких-нибудь питекантропов, если, конечно, эти питекантропы умели рисовать.
Продолжение следует...
|