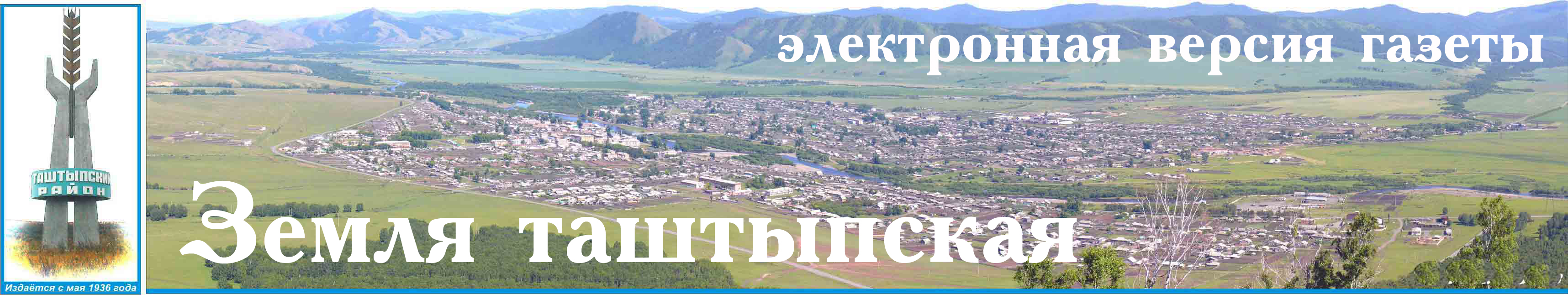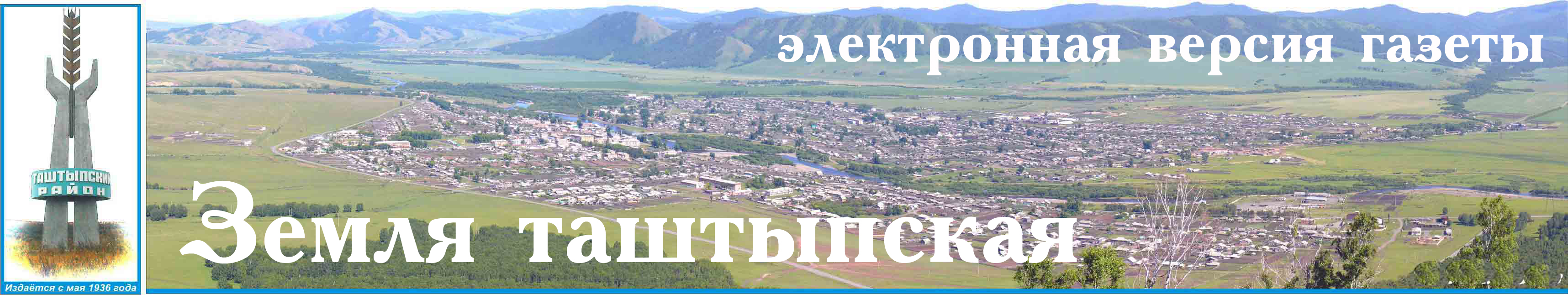Наталья Ковалева
Сладка ягода – рябина
Глава седьмая, в которой Труфанов учится говорить на «чужом» языке
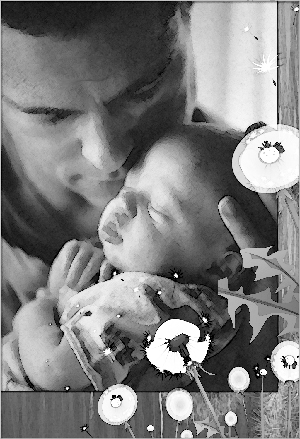 За больничным окном – синь безоглядная, яркая, глаза слепит, даже через запыленные рамы. Как же нежданно и негаданно плеснул апрель почти летним теплом. Крапива под больничным забором – ровными еще аккуратными холмиками жгучей зелени. Народ к теплу не привык. Тащит на плечах тяжелые пальто, парится и не верит: ни солнцу, ни апрелю, ни смелой траве. Все хорошее – временно. Все хорошее кончается враз. Лучше не ждать хорошего, тогда с плохим можно мириться, оно даже хорошим начинает казаться. Безнадежное житие – это ровное житие. Крушение надежд – страшнее. И люди упорно рядятся в куртки и пальто, закутывают тела и души, боясь подставить оголенные плечи и сердца внезапной оттепели. За больничным окном – синь безоглядная, яркая, глаза слепит, даже через запыленные рамы. Как же нежданно и негаданно плеснул апрель почти летним теплом. Крапива под больничным забором – ровными еще аккуратными холмиками жгучей зелени. Народ к теплу не привык. Тащит на плечах тяжелые пальто, парится и не верит: ни солнцу, ни апрелю, ни смелой траве. Все хорошее – временно. Все хорошее кончается враз. Лучше не ждать хорошего, тогда с плохим можно мириться, оно даже хорошим начинает казаться. Безнадежное житие – это ровное житие. Крушение надежд – страшнее. И люди упорно рядятся в куртки и пальто, закутывают тела и души, боясь подставить оголенные плечи и сердца внезапной оттепели.
Смотрит Томка на забор, на крапиву, людей снующих туда-сюда, в синеву, смотрит напряженно, до слез в глазах и ничего не видит. Топчется за спиной Бориска. Повернуться к сыну надо, сказать:
– Ну, что ж, сын, и без папки проживем. Тоже мне потеря.
А сил нет.
Вцепилась в подоконник, пыль меж рамами разглядывает. Тряпка под рукой оказалась, кинулась бы оттирать скопившуюся за зиму грязь, только не поворачиваться, и в глаза сыну не смотреть… Стыдно. Не смогла она мужа удержать. Не сумела.
Ведь знала, куда, к кому Мишка рванул. И в телефоне фотку видела. И, что греха таить, читала послания. Читала и завидовала, как же гладко и красиво выводит: «Скучаю, как будто половину сердца ты увез с собой!!!!!!!!!» Томка эту цепь восклицательных знаков вспомнила. Острые, как иглы, и каждая – в неё, в жену законную. Девчонка с фотографии улыбалась солнечно, неприкрыто радостно. И Томке странным казалось это внезапное счастье. У Томки оно иным было – тихим, робким, боязливым. Все прятала от всех, берегла, носила любовь, как ребенка долгожданного. Молчала, лишний раз с лаской подойти не решалась. Да и времени на ласки не было. А что же было? Что?
Выживание было. По-своему, счастливое, но бесконечно трудное. А есть ли в деревне другое? Томке еще повезло – зарабатывал Миша хорошо. Опять же труда не боялся, брался за любое дело жадно, себе продыха не давал и Томке. Но ведь так и должно быть? Разве ж с неба достаток падает? Тома вздохнула, теснее к стеклу прижалась, нагретое коротким теплом, оно не холодило, скорее, жаром обдавало. Что же сделала она не так? Где оступилась? Чем та, улыбчивая и беззаботная, слаще показалась?
Ведь знала о сопернице, бывало даже нарисовать себе пыталась, как ходит эта «Катеринка», улыбается, к мужу её ластится. Не могла, застилал глаза бабий страх. Прочь мысли гнала, молчала. Футболки Мишкины от чужой помады отстирывая, столько соли выплакала, что можно добрую бочку огурцов засолить. А вот не верила до последнего, что уйдет муж, не от неё, глупой, старой, неласковой, а от сына.
Все в её голове очень даже ловко укладывалось: и почему изме-нил, и что нашел в девчонке этой рыжей, а вот как можно своего ребенка бросить – не понимала. Разве можно жить, если не знаешь, как он там маленький?! Кто его на руки берет? Как кормит? И кормит ли?
Выходит можно… или и в самом деле у мужиков сердце по иным меркам сделано?
Бориска на мать таращился изумленно. Он не сказал, что Мишка ушел. Только забрал молоко и уже бежать хотел, пока мамку не поймали с этими баночками, нельзя ей сдаиваться, а тут она со своим:
– Как они кушают-то?
И он подробно начал про смесь, как разводит, и что потом молоком запить дает, и греет его, как она наказывала…
– Ты сам? А папка что ж?
– Папка?!
Борька готовился, что однажды спросит мать про Мишку, но она молчала. Бориска решил, что Мишка ей до фонаря, обрадовался. А она вот так, в лоб, припечатала вопросом. И ответить нечего. Только глазами захлопал. Потом спохватился, но мама вдруг за плечи себя ухватила, будто очень холодно в приемном покое и к окну отвернулась. Тяжело в этом молчании, неловко. Сорваться бы, как от соседского волкодава – и подальше отсюда. Только не уйдешь. Страшно, очень.
В прошлом году похоронили Ивана Кузьмича – учителя физкультуры. Вечером он еще с ними по стадиону круги наматывал и на турнике висел, а утром уже уроки отменили. Учителя суетились, метались, как заполошные. А потом рухнуло «Спасти не удалось». Бориска сидел, пришибленный. К физруку он особо не привязался, даже недолюбливал, но никак не вязалось в одно целое, шустрый их Ваня-Кузя, со свистком на круглом животе и это желтое восковое нечто в гробу. Показалось: куклу притащили и сунули на атласную подушечку под кружевное покрывало.
– Инфаркт, рано, очень рано, – шептались за спиной…
У мамы – «пред-ын-фаркт-ное состояние» – это как по шпалам от поезда. Все время в затылок черное, страшное, обдающее копотью и болью. Чуть промедлил и...
– Ма, мы справимся, ты лечись, а то… – выдавил, но произнести слово «умрешь» не смог. Сказать – примерить. Примерить – накаркать.
Но подумал, и жуть накатила такая, что к двери попятился. Мать не обернулась. Уцепился за ручку.
– Я пойду, молоко остынет, – надо же сказать хоть что-то… Надо же.
– Молоко? – Тамару точно за плечи тряхнул кто. – Молоко?!!!
Что же она? Что же? Мишка?! Да какой Мишка?! Дети там одни, совсем одни.
– Сына! Погоди, я только пальто возьму!
И кинулась к сестре-хозяйке.
* * *
«Мозгуй» по комнате вышагивал и ненароком сшибить что-нибудь боялся. Гулливер с двумя лилипутами. Один-то засопел, а Настя глазенки таращит, и сна в них – ни капли. Едва Борис за порог, она – в рев. Вытащил из коляски, раздавить боясь. Девчонка и примолкла: такую няньку ей видеть не доводилось. Минут десять держал неловко, оттопырив локти, плечи заломило, устроил надежнее. В кресло уселся. Вякнула недовольно, вскочил, как в армии не вскакивал.
– А-а-а-а-а-а, – затянул хрипло, других колыбельных не знал.
И зашагал, молясь на часы. Нина грозилась к трем придти: вот-вот значит.
Настюха смотрела внимательно, точно наблюдая, что ты, мол, можешь, большой дурак, против меня? И от локтя, от детской головки шло по руке ровное тепло. И от него такого хрупкого, легкого, как дыхание погожего дня в марте, от щеки прильнувшей доверчиво, стало уютно как-то и спокойно. По особому спокойно, словно через две улицы не ревел моторами его «Алтран», да и вообще ничего не было, кроме этой крохи на руках.
«Ну, не так и страшно, господин генеральный директор» – подумалось, а вслух добавил:
– Что, невеста, не спится?
Невеста сверкнула в ответ розовыми деснами и пузырь надула.
– А слюнявых женихи не любят, – сообщил.
Девчушка гуркотнула, точно голубь, выгнулась, будто показать хотела, что и ей спокойно и хорошо. И легко стало, в самом-то деле, она же хоть и мелкий, а тоже человек, и поговорить по-своему хочет. Одно плохо – забыл Труфанов детский язык. Да и не знал никогда. Дети, семья… не думал об этом, то есть думалось, еще как… Так нищий о поездке в Париж мечтает, города не представляет, видится нечто светлое и яркое, недостижимое, вот к этому светлому и тянет, кажется только Парижа в его нищей жизни и не хватает для полного, окончательного счастья. Труфанов в Париже тоже не был. Нет, денег хватило бы, а вот время…где его взять? Вся жизнь – забег на длинную дистанцию. А остановиться нельзя, обгонят, обойдут, вышвырнут прочь. Он и не замечал, мимо чего бежит. Вот впервые остановился. Зачем? Добреньким хотел показаться? Если бы так, то все просто: вручил тысяч десять деревянных. Томка не избалованная и рада бы была. Но именно с Томкой не мог он откупиться, вот и наматывает круги по комнате. Зачем? А хочется так. И не надо ничего объяснять, он имеет право делать то, что хочет. Заслужил, заработал, хрипом, потом, подлостью, трудом, сметкой, практичностью, черт знает чем еще. Он, может, себе это позволить! Может!
– Так, красавица? – спросил. – Ишь ты, чернобровая, подрастешь будет брат женихов гонять. Борис парень – серьезный. У-у-у-у!
Насте заявление про сурового брата не понравилось, накуксилась враз, как неспелый крыжовник съела. Хныкнула… раз,… другой…
– Эй, стоп, стоп, моя хорошая. Ты тётю Нину подожди и реви? – отчаянней заработал руками «Мозгуй»: туда-сюда, туда-сюда и замурлыкал, точно несговорчивого клиента уламывая:
– Мы с тобой договор заключим о взаимовыгодном партнерстве? У меня не голосишь, а Нину, хоть порви. Тетка Нина вас троих таких подняла, она с вами справится. Так, очаровашка? Заключим договор? И тебе хорошо, и мне не плохо. Условия обсудим? Обсудим. Ты молчишь, а я тебе твоей смеси притащу – фуру и памперсов, что вы там еще носите?
Малышка договор обдумывала серьезно. Сведенные бровки не отпускала, строгость показывая, но притихла и не ревела. Воодушевление заявилось стремительно и полилось вовсе несуразной болтовней:
– А подрастешь, я тебя покатаю, ух. Ты представь, на «скании» хочешь? Нет, девушка, на «мерине»! Вот, тебе скажу, машина! В гору прёт с грузом, топать не надо. Дизелек только выговаривает: р-р-р-р-р-р-р, да мягко так! «Татарин» он как ревет? Фыр-фыр –дыр- дыр, а «мерс», нет, машина с достоинством, за спиной – сорок тонн, и не чихнет, р-р-р-р-р-р-р-р. А! Улыбаешься? Это верно. Зачем нам ведро с болтами?! «Немец» – это сила, ых-хххххх! За руль бы, Настюха, и к чертям собачьим всё…
Вот как раз в момент этой задушевной шоферской песни и появились, осторожно нащупывая путь, пальчики, двигались они будто бы сами по себе, на мордашке эта тихая интервенция никоим образом не отражалась. «Мозгуй» на полуслове замер. И сам не понимая зачем, сунул мизинец. Пальцы тут же сомкнулись плотно.
– Ух ты! – присвистнул «Мозгуй», – Вон ты как можешь!
И уже, не заморачиваясь особо, уложил девчонку на диван, высвободил пленные ручонки и всучил каждой по пальцу. «Игрушка» Настене с первого взгляда понравилась и даже въевшийся намертво мазут не напугал…
«Мозгуй» присел рядом, потянул к себе, девчонка висела, как мар-тышка на пальме
– Молодец! – оценил. – Не страшно? Смелая ты, козявка.
И осторожно, провел ладонью по пушистой головешке. По ладони, как ветерок прошелся, мягкий, нежный.
– Эх, ты, одуванчик в памперсах. Улыбаешься, дуреха, а ведь…
Что ведь – говорить не стал. Хоть и понимал: Тома и тепло её – короткий полустанок. Заберут Настену рано или поздно. А теперь одной Тамаре девочку не отдадут и вовсе. Еще неделю назад он думал, что лучшим выходом для всех будет – отдать малышку. Но ломая жесткую логику, очень верную и очень точную, вползло в душу лишнее, ненужное ему чувство, названия которому он еще не знал. Но уже понял, что если и не зарыдает горько о судьбе девули, то саднить душу будет.
Выход всегда найти можно. Но как? Ребенок – не краденая машина – номера на движке не перебьешь и по фальшивым документам на учет не поставишь.
– Что ж мы делать с тобой будем? – поинтересовался.Кроха только улыбалась в ответ. – Думать надо, Настюша. У нас страна – неограниченных возможностей. Думать. По какому вы там ведомству проходите? Районо или соцзащита. Везде люди. И деньги, Настя, всем нужны. А деньги у нас…
И тут ворота хлопнули:
– Тётка Нина пришла. – подмигнул, сгреб «одуванчик» в охапку и шагнул на кухню.
|