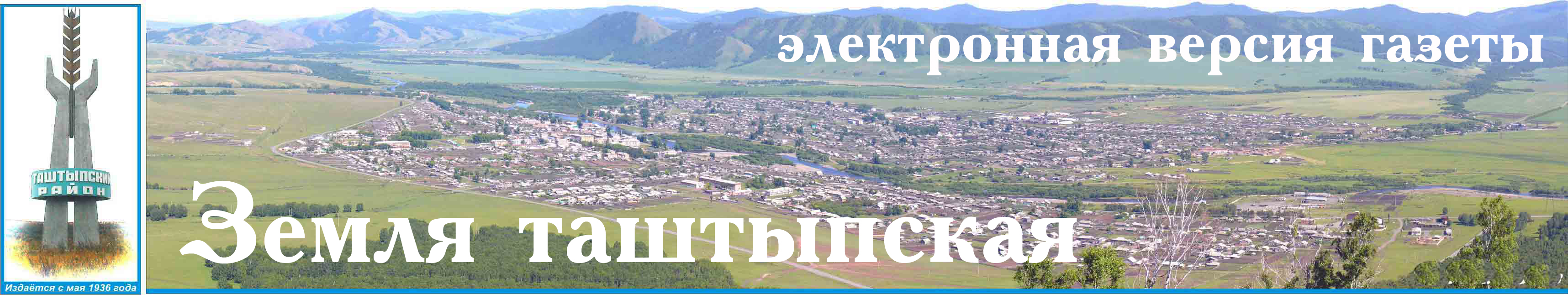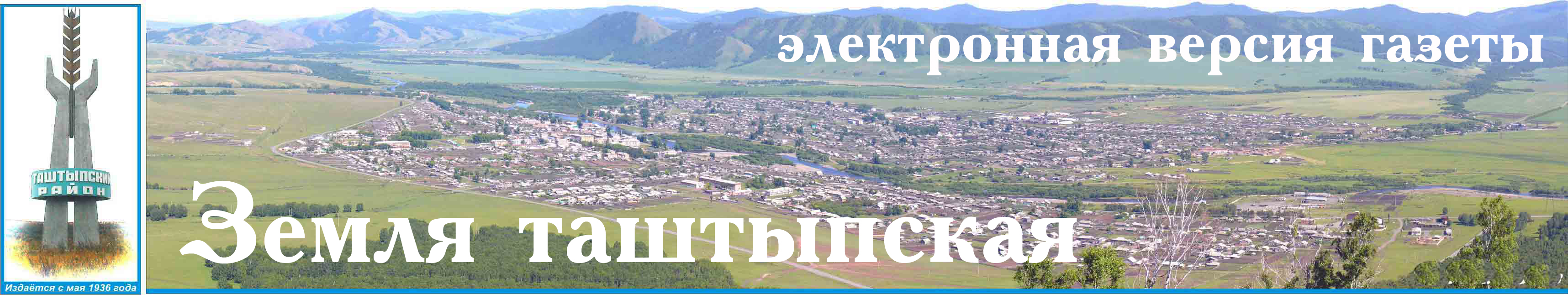Разноцветная кровьБабушка умела готовить жемайтийский пивной суп. Я не совсем точно знаю, верное это название или, возможно, изобретенное моей бабушкой. Она прекрасно говорила по-французски, умела танцевать мазурку и держать спину. Моя бабушка была из старинного рода Войнаровских. Гордых шляхтичей с узким лицом и кожей такой белой, что она не могла скрыть грациозное течение голубой крови по хрустальным жилам…
– W zylach plynie krew niebieski Vojnarovskih, – повторяла она (В твоих жилах течет голубая кровь Войнаровских).
Моя мама тоже готовила жемайтийский пивной суп, но уже не знала французский. Зато слушала Шопена.
В нашем доме всегда пахло лавандой, мама покупала её в аптеке и делала саше. Шелковые подушечки, которые лежали между простынями, всегда чуть-чуть подкрахмаленными.
Мамочка гладила мои руки и взволнованно приговаривала:
– Агнешка! Деточка, у тебя тонкие пальцы хирурга, ты должна продолжить династию…Твой прадед был… твой дед... в войну... честь рода...
А у меня все кем-то были. Но я не хотела, как дурак с котомкой, таскаться с гордостью за крульску кровь узколицых Войнаровских. Я хотела своей жизни. Правда, представляла её очень смутно.
– Не прощу, если ты не продолжишь династию врачей! W zylach plynie krew niebieski Vojnarovskih! Наша кровь не оставляет нам права на ошибку! – сурово сказала мама.
Но я не доехала одну остановку до мединститута и поступила в культпросветучилище. Мне казалось это верным. Я не стала хирургом и этим спасла сотни человеческих жизней. Но путь домой мне теперь заказан.
* * *– Научите меня косить! – первая фраза, сказанная мной в деревне.
Я очень хотела избавиться от голубой крови. Она иногда приливала каким-то особенным томлением к сердцу. Пальцы несостоявшегося хирурга тянулись к фортепиано, хотелось плакать и читать стихи.
Деревенский клуб пах сыростью и паутиной, в углу стоял тазик, и зрительный зал наполняли звуки не в такт падающих дождевых капель. Здесь теперь мой дом. И я завклуб, худрук, хореограф, техничка, сторож и истопник в одном лице.
– За не хрен делать! – хором пообещало мужское население в возрасте от пятнадцати до пятидесяти.
– А на кой ляд? – поинтересовалось женское.
Женское здесь в меньшинстве. Промысловый поселок – рай для одиноких девиц. Замуж выходили даже кривые и хромые. (Я не сообщу адрес, потому что имею право на вымысел… Хотя… хотя в сторону от федеральной трассы М53 еще сорок верст.)
– Ты про косить-то не шутковала? – уцепился за локоть седой мужик, лет пятидесяти.
– Не-е-ет.
– Пойдем тады с сыном познакомлю. Дядей Костей меня зови. А ты, стало быть, Агния.
– Агнешка, – чуть не вырвалось. Но вовремя закусила глупые губы.
* * *– Пятку жми, чего макушки сшибаешь! – командовал знойный мачо Марат, первый жених в деревне.
Он обладал высоким ростом, красивой фамилией Баринов, отдаленным сходством с каким-то голливудским актером и ярко выраженным – с дядей Костей. На мускулистом плече красовалась наколка с крылышками, парашютом и надписью «ВДВ». Я знала, что в нем 90 кг мышечной массы, правда не очень понимала, как можно массу взвесить отдельно от костей.
– Жмай пятку, дур-ра!
– Жмаю!
– Да где? По верху идет.
– Болит уже.
– Кто?
– Пятка.
– Глупая! У косы пятку.
– У косы?! А где у неё...
– Да ну его, – откинул литовку Маратик. – Одни мы, чего уж. Батя в деревню поехал.
И эффектно скинул с себя полосатую майку.
– Нет, – ответила. – Еще два прокоса – и научусь.
Мне нравилось слово прокос. От него пахло старинным русским духом, я произносила его нараспев, так было красивее.
– Да брось ты! – Марат тряс головой, отгоняя паутов – таких бо-льших кусачих мух. – А то ты сюда из-за покоса приехала?
– А-то из-за чего? – не успела спросить я, прижатая к земле всеми килограммами мышечной массы.
– Ну, давай, чего все кругами ходишь, я ж не против... – зашептал Маратик и очень ловко справился с застежкой на джинсах.
Слева от щеки, совсем рядом, матово блеснуло лезвие литовки.
– Дуррра! – скатился Маратик. – Ошалела? А порежешь?
– Умнее будешь, – раздалось над головами. – Дай-кось литовочку, девка. От-ты, и отбить косу путем не сумел, байбак.
Дядя Костя как ни в чем не бывало пристроил на сухое бревно правилку, и над покосом зазвучало мелодично:
– Дзинь-дзинь-дзинь....
* * *– На вот теперь, возьми.
Дядя Костя стал за спиной и положил мои руки на косовище, накрыв крепкими лапами, загорелыми дочерна и горячими. Вскинула взгляд, почти упершись в его грудь затылком.
Синие, как мартовское небо, глаза подмигнули, молодо-молодо. Мягко обнял покой и разморенный воздух жаркого июля.
– Махонькая ты, ровно птичка, – усмехнулся. – Ну, давай, не спеша.
Трава покорно легла под жалом литовки, смешав пестрые головки цветов…
* * *– Скажи, тебе зачем это надо? – спросил Марат и отхлебнул медовухи.
Что я могла ответить? Что моя бабушка готовила пивной суп и говорила по-французски без акцента? А я всего этого не умею и не хочу уметь?
– Вот выйду за тебя замуж и буду траву косить.
Рыжая бабочка опустилась мне на руку и бесцеремонно поползла по ней.
– Дур-р-ра! – обрадовался Марат. – Мы ж давно трактором косим.
И печально добавил:
– Я покос вручную выпластал, вот батя хереть будет.
* * *Дядя Костя звал меня невесткой и приносил ведрами ягоду. За лето они перекрыли с сыном деревенский старый клуб своим тесом (слово «тес» мне тоже нравилось), а ночами мы с Маратом собирали цветомузыку по инструкции пожелтевшего журнала «Наука и техника». Если уж быть до конца честной, то дядя Костя мне нравился куда больше Марата. Он был седой, сильный, добрый и никогда не матерился. Иногда я мысленно примеряла на него шитый золотом жупан. Как ни странно, он шел будущему свекру необыкновенно.
– Слышь, че, – однажды сообщил он. – Надо бы родителей твоих навестить. Черкни адрес, а я в город поеду, заскочу по-родневски.
Я испугалась и адреса не дала.
* * *К зиме Марат засобирался белковать и соболятничать.
– Справим тебе шапку и на пальтишко ворот кинем, – пообещал дядя Костя.
Тетя Феня, его жена, закивала. Она походила на большую русскую печь и всегда пахла тестом. Кроме Марата, у них было еще пятеро. И стряпать приходилось очень много.
– У нас в родове бабы детей не скидывают, сколь есть, столь рожай, – учила она. И грозила кулаком Марату. – До свадьбы мне – без баловства!
Мама бы поддержала её в этом вопросе непременно:
– Агнешка, всякая девушка должна знать только одного мужчину! И только после свадьбы!
Но мама не писала. Я проверяла почтовый ящик каждый день и старательно строчила ей письма. Рассказывала обо всем. О погребе с банками варенья, собольей шапке – первой в моей жизни дорогой вещи, концертах в клубе, и о том, что я не люблю Марата, но, наверное, выйду за него, потому что мне нравятся дядя Костя и тетя Феня и мне жаль их обижать. Я запечатывала листочки, исписанные бисеринками букв, в конверты, клеила марки и... сжигала. Они пыхали вначале жарко-оранжевым, а потом, умирая, отливали голубым, как гордая кровь шляхтичей Войнаровских.
* * *Дядя Костя приходил на все танцы и концерты, чтобы после проводить меня до дома. Мало ли. Я смотрела на его седую голову и думала, что моя мама, скорее всего, все также красит волосы хной. Мы шли с ним домой за полночь по заметным улочкам, я наблюдала, как гаснут одно за одним деревенские оконца, и вспоминала ночник в виде охотничьего рога в изголовье моей кровати в родительском доме.
Дядя Костя был хорошим собеседником: позволял молчать сколько мне вздумается и молчал сам.
Утром приходила тётя Феня и приносила теплое молоко. И рассказывала, что к Марату на заимку заезжал Мишка Шахов, привез еще капканов и забрал пушнину, что Марат лучший охотник и что умеет стрелку ставить на соболя. Я не знала, что такое стрелка, и мне виделся старинный арбалет, куча утонченных гончих и звук охотничьего рога.
– Гайда, стремянные…
– А ты часом не тяжелая, а? Чет квелая ходишь? – пытала она.
Я удивлялась, я всегда весила не больше пятидесяти килограммов.
А Марат добывал шкурки. Их должно хватить на свадьбу и ремонт казенного дома, где я обреталась. В сельсовете лежало заявление. Свадьбу назначили на 24 марта.
* * *В конце февраля наш клуб признали лучшим среди таких же развалюшек от культуры. Я получила премию из рук главы района. Зашла в аптеку и купила лаванды.
– Кисет что ли шьешь? – спросил дядя Костя.
– Саше, – ответила я, дуя на неумелые пальцы, исколотые иглой, и добавила. – Сава бьен.
Не зная, что сказала.
* * *В начале марта вышел из тайги Марат. Мы с деревенской ребятней репетировали концерт к празднику. Я как раз пыталась извлечь из убитого фортепиано Бриллиантовый вальс Шопена, когда будущий супруг остановился в проеме – похудевший и страшно обросший. Шопен захлебнулся моим испугом. Как же быстро летит время...
– Идем домой, что ли? – позвал он и по-хозяйски хлопнул по заду.
Пошла, удивляясь, что совсем ничего не испытываю. И даже небу, голубому и прозрачно высокому, не радуюсь. Такое странное и ровное спокойствие.
– Завтра пушнину сдам в промхоз, рассчитают, и можно свадьбу играть, – Марат уселся на койку, вытянул длинные ноги в вязаных носках и пошевелил пальцами. – Сегодня у тебя останусь, хватит уже.
Что хватит, он не объяснил. Но я поняла.
– Сухо пахнут иммортели, – почему-то вспомнила.
– Что там пахнет?
– Иммортели.
– А-а-а, полотенце дай, в баню пойду. Расстели пока.
– Вот так, – обреченно ухнуло сердце.
Постель постелила, легла, примеряясь, удивилась, как же тут вдвоем спать, если одной тесно? Но раз надо, то надо. И потом, Марат же почти муж уже. Слово «муж» не понравилось, оно пахло грязными шерстяными носками и потом, а совсем не иммортелями. Я еще попробовала слово на язык. Нет. Оно никак не желало становиться вкуснее. И благоухало все также отвратно.
* * *«А как они пахнут, эти самые иммортели?» – подумала, припирая баньку тяжелым засовом.
Потом уже ни о чем не думала. Просто быстро-быстро бежала по улице. Куда?
– Куда ты? – перехватил дядя Костя. – Я вот к вам шел, говорят Маратка у тебя?
– У меня, – села я в снег и заплакала.
Дядя Костя потоптался рядом, крякнул и поднял за шиворот:
– Ну, пошли что ль…
– Не пойду, – сказала. – И замуж не пойду.
– А то ж понятно, не пойдешь. Где Маратка-то?
– Почему понятно?
Дядя Костя отмолчался. Он всегда был хорошим собеседником.
Засов лязгнул. Дверь в предбанник отворилась, я увидела голого Марата и зажмурилась.
– Батя, ты чего? – удивился Марат.
– Домой иди, сын.
– Да чего теперь… Все равно скоро распишемся.
– Иди! – рявкнул.
Марат что было сил хлопнул дверью, а я вновь заревела. Но оставаться с дядей Костей было не так страшно, как с Маратом.
– Не заломал тут тебя?
– Не-е-ет. Я… я… я… не… люблю… его.
– Не реви. Понял, все ждал, что пытать будешь, как он да где. А ты за три месяца – ни словом. А! – махнул он тяжелой рукой. – Я-то уж привязался к тебе. Думал, по-людски все.
– Дядя Костя, не могу, не могу я так… Я его совсем это, не… не… хочу.
– Хотенье – дело наживное. Парень молодой, ты – девка горячая, может еще…
– Нет! – крикнула.
– Тс-с-с, не ори. Ты б куда-никуда уехала. Наделает он бед. К матери что ль?
– К маме? – горло перехватила немыслимая тоска, острая, как жало литовки.
К маме, к мамочке. Я хотела объяснить, рассказать, но слова толпились у губ, выскакивая ни к месту, и не те. Сунула ему в руку недописанное письмо. Кряхтел долго, приглядывался.
– Читай что ль, я без очков.
Всхлипывая и поминутно вытирая мокрый нос, я начала:
– «Здравствуй мамочка, я все равно письмо не отправлю, и поэтому пишу, что скучаю. Как, наверное, только можно скучать. Очень скоро я выйду замуж. А ты даже не будешь знать, что я больше не ношу фамилию Войнаровская…»
* * *Я могла бы даже не смотреть в листок. Я всегда писала и читала вслух. Будто говорила с мамой. И письмо от первой до последней строчки укладывалось в голове до следующего послания.
«Мама, мамочка, если бы ты только простила меня, нашла слова и силы перешагнуть через гордую шляхетскую кровь и приехала. Или бы просто сбросила пустой конверт. Чтобы я знала: я не совсем одна. У меня еще есть ты. Я твержу на дню сто раз: «Прости меня, прости меня, прости!».
А простить саму себя не могу. Но ты же можешь? Ты же мама, моя мама.
Я теперь знаю, как шить саше, нашла рецепт пивного супа, люблю Шопена. Но зачем мне это, если никогда, никогда, никогда ты не поправишь мои руки за фортепиано, не поднимешь моих детей и не скажешь, как говорила мне:
Знаешь, самая большая моя беда, что ты очень хорошо научила меня держать спину. И я ни за что не отправлю письмо. В моих жилах течет все та же гордая кровь. И я никогда от неё не избавлюсь. Разве если выдавлю её совсем, по капле. И все равно, куда я дену своё детство? Только в одном ты ошибаешься, мама. У человека есть право на свои собственные ошибки! Теперь я знаю это точно. Только исправить их одна не могу…»
– Слышь, дочка, – прервал вдруг дядя Костя. – Ты матери-то сказала, где живешь, а?
Я опешила и замотала отяжелевшей башкой, точно отгоняя паутов.
Показалось или дядя Костя глухо заматерился. Впервые.
* * *Мы мчались через ночь к трассе за сорок верст, навстречу летели звезды и ветер бил в лицо, лошадка топала мерно, мне было очень хорошо высовывать нос из-под тулупа и видеть ровную спину дяди Кости. Я возвращалась домой…
Только утром, когда уже поднималась на подножку автобуса:
– Дядя Костя, – позвала. – Извините, что так вышло все.
– Выдрать бы тебя! – огрызнулся он. – Ну, да мать-то, поди, выдерет.
– Выдерет! – радостно согласилась я.
И подумала, что теперь в моих жилах совсем немного есть горячей красной крови дяди Кости Баринова и хрустальные вены панов Войнаровских несут её с удовольствием.
Наталья Ковалева
|