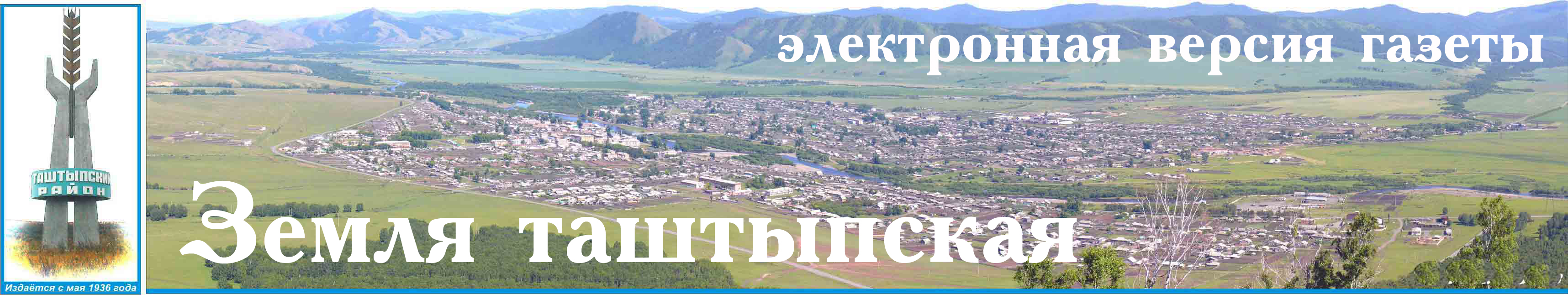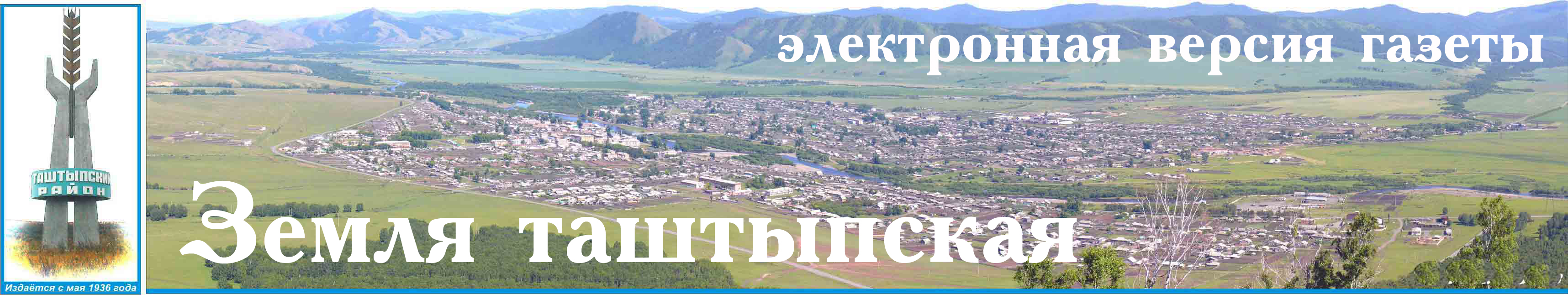Наталья Ковалева
Сладка ягода – рябина
«Дурёха» – мелькнуло с тем привычным чувством превосходства и мужской снисходительности, с какой он привык думать о жене – бабе бестолковой, глупой, и совсем без него, Мишки, беспомощной.
И стало очень спокойно, уютно, точно вот сейчас он нашел важное решение, которое до этого долго и безуспешно искал. И теперь всё чего хотелось телу да и душе не упускать вот это очень простое и ясное решение. Впрочем, высказать его вслух он еще не решался и только думал лениво: «Чего уже прыгать, чего…», – и опять теплое и великодушное «Дурёха, ты…».
Пробежался пальцами вдоль доверчиво прильнувшей щеки к шее, под затылок, наслаждаясь уже тем, что Томка вновь подалась навстречу ласке, прикрыв глаза, доверчиво, как животное, уверенное в том, что не оттолкнет хозяин и не ударит.
«На заднее сиденье бы», – подумал, приподнялся и рот открыл, чтоб предложить… Резко, зло, металлически сухо завибрировал сотовый, колко рассыпая навязчивую мелодию. Мишка машинально взгляд бросил… С монитора белозубо улыбался «Мозгуй».
«Саша» – прочитал, не замечая предательски маленькой буковки «д», поставленной Бориской. А буква была крайне важная, объясняющая, что «Мозгуй» для матери не «Саша», а «дядя Саша» – человек не совсем родной, но и не чужой… Закостенел Мишка, но вдруг обмяк, протянул Томке телефон:
– Тебя, – растянул губы, предвкушая, вот сейчас услышит Труфанов: с мужем Тамара. И хорошо, что от неё самой услышит.
– Бери, – подтолкнув замешкавшуюся жену.
Она подержала телефон на ладони осторожно, как жабу, но послушно приняла вызов
– Тома! – раздалось явственно.
Томка прижала трубку к уху и тут же услышала, кроме труфановского голоса и обиженный детский плач. «О, Господи, ребятишки, ребятишки…», – забилось в висках.
– Ты где? Тут тебя потеряли уже? – взвился голос.
– Сейчас, сейчас! – заторопилась Томка. – Я сейчас буду. Бегу!
И повернулась к Мишке, попросить, чтоб довез.
– Будешь? – тихо спросил он, качнувшись всем телом вперед, точно разглядел под ногами что-то очень нужное. – Бу-дееешь?
И распрямился, вжал пальцы в Томкины виски, выворачивая её шею под каким то немыслимым углом, пытаясь увидеть, что же в глазах её сейчас…
– Миша! – жалобно всхлипнула Томка. – Ребятишки там, он же с ними, с двумя, Миша.
– Занятна-а-а, будееешь, значит.
Он решительно подобрал Томкину юбку, белье, все, что попалось под руку, и швырнул жене:
– Давай! Подмыться не забудь, сука! Солярой пахнешь. Ты же из под меня, меня….
И не договорил, хлопнул дверцей, ринулся прочь, на ходу натягивая джинсы, прыгая неловко, путаясь.
– Миша! Мишенька, – босые ноги обжег холодный бетон, но обхватила мужа, прижалась, успокоить надеясь. – Ты что же? Ты что подумал? Миша, я с Алексан Федорычем?
Мишка оттолкнул прильнувшую женщину и щелкнул пряжкой ремня. Простым этим движением, возвращая себе и силу, и обычную насмешливость:
– А в койке ты его тоже Александром Федоровичем зовешь?
– Да нет же! Миша!
– Значит Сашей или Шуркой, – Мишаня распахнул дверцу и устроился на сиденье, натягивая кроссовки. Только Томка как есть нагишом стыла, кляня тугодумность свою, слова искала, а выходило не то и не так:
– Миша, я тебя, понимаешь, тебя, я с ним, Миша, нет, Миша-а-а!
– Не надо, Томка, – Мишка неторопливо рубашку застегнул. – Нормально все. Вы же бабы, все такие, погладь по спинке и бери. А!
Махнул он резко, ненавидя самого себя за наплывшую минутную слабость – ловко она с ним, крутенько приласкала…
– Оденься, я ворота открою, – и побрел тяжело к железным створкам. Потянул было засов, но обернулся и окликнул:
– Слышь, Томка!
Она тут же отозвалась:
– Что?
– А я и не думал, что ты стерва… Это ж он там пеленки меняет, пока мы тут кувыркаемся. Мозгуй – пеленки! – и закатился весело, через чур весело. – Ой, мать моя – женщина, Томка, Мозгуй, а?
Дождь застучал отчетливее, уже не выговаривая, а рокоча сердито, будто осерчал не на шутку на этих двоих, непонятливых. Дробили, частили, горохом рассыпались по шиферу гаража капли… Ругались.
Не слышала Томка, металась, путалась пальцами в пуговицах праздничной блузки. И молчала, не зная, как же сказать и что сказать, и есть ли смысл говорить.
А Мишка ждал ответа, слез, криков, и что оправдываться начнет. Одному в виноватых ходить – тяжко. А ходил, не шло из головы Томкино удивленное лицо, кровь из разбитого носа, по губам и губы – ходуном. «Не надо, сына, устал он, устал…»
Святая! На святых молятся, с ними спать не принято. Но Томка все из себя невинность корчит, великомученица. Мишка поднялся и, добивая уже, швырнул:
– Да нормально всё, Томка, не кипешись. От Ваньки ко мне бегала. И от Мозгуя прибегай.
Показалось Томе что сейчас, сию минуту, прошелся Мишаня, как по стеклу, по тому светлому и давнему, что жило в ней вопреки бабам его, ревности, злости беспричинной. Давнее. Хрустнули нестерпимо больно осколки, взвизгнули громогласно и тишина… только дождь холодный, такой стылый, острый, что дыхание в узел сошлось. Бегала от Ваньки… Да! Сунет босые ноги в шлепки и бежит на бережок. Но вот к нему ли? К этому ли Мишке? Или к другому? Тот небо над ней приподнял – ласковый. Ей тогда всё ясно увиделось: и Иван, вечно пьяный, и жизнь в пахоте, с куска на кусок, впроголодь, в вечном страхе, что последнее отнесет за бутылку спирта, и Борьку кормить нечем будет. А еще и то, что все время с Иваном, как слепая была, не представляя, по-другому можно жить. Иначе, с радостью. Будто радугу с неба снял, да на плечи накинул ей Мишка Дьяков. Это он был. Или не он?
И как в яму шагнула:
– От «Мозгуя»? А не было у нас ничего! Я… я… я… детьми клянусь! Вот Дениской, Борькой, Настей клянусь. Не было.
– Не было? – Мишка дорогу перегородил. – Врешь ведь?
Спросил, веря уже в то, что всегда железно знал, за что и выбрал её, на нож Ванькин нарываясь – верная она. Это у него все, что могло быть, было. Но он-то мужик.
Томка остановилась и усмехнулась странно, криво, точно лицо онемело:
– Не вру. А вот теперь будет, Миша, устала я, пусти, всё.
– Как это будет? – опешил Мишка.
– Так. Пусти. Дети ждут.
Не успел ответить, звонко пропел за воротами гудок, Мишка на миг обернулся:
– Мозгуй!
Томка в дверь толкнула. Не бежала к воротам, шла и ждала, что догонит, вцепится в плечо, даже ударит, но остановит. Не остановил. Не бегал Мишка Дьяков за бабами.
Глава двадцать первая, в которой появляется новый герой и новые чувства
 Родной дом Ташка не любила. Он был похож на угрюмого, озлобленного, вечно жалующегося старика, в ветхой одежонке, не прикрывающего дряблого и грязного тела. Когда ей становилось невмоготу терпеть жалобы, девчонка перемывала полы, стирала занавески, выдраивала посуду, вытягивалась на отмытом полу и слушала всей кожей радость гладких половиц, тепло солнечных квадратов, ловила щербатую улыбку окон, затянутых тепличной пленкой. И казалось, что старая изба оживилась, и щурится довольно. Но опять приходила мать, и с ней возвращался сивушный дух, омерзительный, как прокисшая кухонная тряпка. Меркла хрупкая чистота, а вместе с чистотой гасло, уходило и ощущение дома, то самое, что и держит человека у родного очага, будь он богат или беден. Родной дом Ташка не любила. Он был похож на угрюмого, озлобленного, вечно жалующегося старика, в ветхой одежонке, не прикрывающего дряблого и грязного тела. Когда ей становилось невмоготу терпеть жалобы, девчонка перемывала полы, стирала занавески, выдраивала посуду, вытягивалась на отмытом полу и слушала всей кожей радость гладких половиц, тепло солнечных квадратов, ловила щербатую улыбку окон, затянутых тепличной пленкой. И казалось, что старая изба оживилась, и щурится довольно. Но опять приходила мать, и с ней возвращался сивушный дух, омерзительный, как прокисшая кухонная тряпка. Меркла хрупкая чистота, а вместе с чистотой гасло, уходило и ощущение дома, то самое, что и держит человека у родного очага, будь он богат или беден.
Ташку у родного порога ничто не держало ничто, разве брат – Мишка. С самой первой радостной минуты всегда короткого свидания она начинала его болезненно терять, потому и цеплялась так отчаянно и заглядывала преданно в теплые глаза. Глаза быстро-быстро подмигивали, рука брата ныряла в карман, доставая конфету. Ташка прихватывала её губами вместе с фантиком и ждала терпеливо, когда Мишка выдернет сласть, развернет и сунет её в рот опять. Ташка умела разворачивать конфеты и сама. Но это была привычная игра – неприменный ритуал встречи, потому если медлил брат, она так и сидела бережно держа конфетину.
Но в тот день Мишка приехал домой совсем другим, колючим, нервным, враз очужевшим, он ходил торопливо по комнате и ругал мать, за неё, Ташку, ругал. Она это понимала, мучаясь виной. Гладила тайком его руку, касаясь даже не кисти, а рукава синей джинсовой куртки. А Мишаня не успокаивался, плохо было, тяжело, конфет он не привез, вытащил из кармана ворох мятых купюр, кинул на буфет и вышел прочь.
Бросилась следом, заскочила на подножку машины, застучала в окно, а он даже до моста не взял, отцепил жестко пальцы сестры и уехал. Вот и помчалась наперерез через тайгу, туда, где впивалась в зеленое тело леса шумная трасса, почему-то уверена была, что догонит. Не догнала.
Солнце клонилось к западу и там, где солнце целовалось с макушками гор, нет дальше за горами должен быть многолюдный манящий Березовск. А значит и Мишка. Ташка оглянулась на миг на темень, сгустившуюся над лесом и тропинкой, ведущей в Кураевку. Постояла и решительно пошагала к солнцу. Шла сперва торопливо, почти бегом, а после уже механически передвигая уставшие ноги.
Вот также топала она в Березовск этой весной. Хотя тогда гораздо тяжелей приходилось, живот раздувшийся, невыносимый, огромный, пугал её предчувствием неотвратимого, страшного, неизбежного, гнал к единственному человеку, что мог взять да и спрятать её от беды, как прятал в детстве от пьяной матери, вырывая из её рук прут или ремень.
Белесоватый рассвет осторожно плеснул молока в чернила ночи. Отчетливее проступили горбы Саян, ощетинившиеся густым ельником, еще не видны были белки, отблескивающие днем вечным холодом нетающего снега, и сами горы пока теснились вдоль трассы плечо к плечу, точно и они промерзли, охваченные зябкой влажностью утра, и теперь прижимаются друг другу, чтоб хоть как-то согреться. Вот в этот час, когда нет уже луны, а утро крадется тихонечко, как воришка в соседский огород, мгла всегда кажется тяжелее и мрачнее обычного. Но пройдет всего каких-нибудь полчаса и зарозовеет заря, сперва размытая и неясная, как линялое полотенце, а потом все ярче и отчетливее. Но самое трудное, как раз пережить эти полчаса до рассвета.
Ташка присела на пятки и закачалась монотонно, растирая лодыжки, ноги тот час отозвались гулом сведенных мышц… Подумала и вовсе устроилась на обочине, вытянув их, усталые к трассе, отползла в сторонку и прикрыла глаза. Вот тут и накрыл её яркий свет фар, она ощутила его сквозь сомкнутые веки, гулко дрогнула земля, под колесами, обдало ядовитой выхлопной гарью. Девчонка только плотнее веки сомкнула, нет, она знала, что машина не Мишина, но хотелось очень хотелось, чтоб это был он, и Ташка боялась распахнуть глаза навстречу правде.
Ефрем Коротков обычно попутчиков не брал. Во-первых, не положено, во-вторых, мало ли на кого наткнешься. В-третьих, попутчицы давным-давно перестали волновать и манить затекшую и онемевшую душу. Было время, когда каждая из них казалась ему заманчивым обещанием тихого счастья. Было да прошло. Теперь же все они, вроде придорожных кустов – стоят и пусть себе стоят. Но эта не стояла. Она сидела на жестком гравии обочины неподвижно, запрокинув голову к небесной черноте. «Живая хоть?» – мелькнуло мутное и жутковатое. И нога торопливо вдавила тормоз. Старый железный «коняга» еще по инерции прошел с добрый десяток метров, прежде чем Коротков распахнул дверцу и крикнул:
– Эй! Ты живая там?
Женщина даже не пошевелилась.
– Черт, – пробормотал Ефрем. – Убили, поди?
И даже выйти не решился, дал задний ход, подталкивая тяжеленную фуру так, чтоб женщина оказалась в свете фар и выдохнул. Девчонка пошевелилась, подтянула к себе коленки и цепко обняла их руками.
– Эй, пьяная что ли? – немилосердно тряхнул девчонку за плечо.
В рассветной мгле она разглядела ясно только белки глаз, показавшиеся особенно белыми да широкую, точно приплюснутую фигуру.
– Куда тебе? – спросил.
Но Ташка не поняла. Сидела на земле, испуганно таращась, придавленная тяжелой рукой.
– Пойдем что ли? – Коротков поднял её за локоть и втолкнул в круг ослепительно яркого света. Ташка зажмурилась, прикрылась ладонью от Ефрема ли или от света.
«Девчонка совсем», – подумалось отчего-то с острым привкусом вины.
– Куда тебе? – повторил помягче. – Я в Сибирск…
И осолонел, наподобие Лотовой жены, пойманный уже не виной, не страхом, а жалостью. Девушка внимательно смотрела на его губы. Даже не внимательно, а пристально в упор, сосредоточенно пытаясь понять смысл его речи. Но Ефрем смолк. И все что мог сейчас это подтолкнуть её к кабине.
И только когда ровно загудел дизель, возвращая растерянному хозяину ощущение привычности и уверенности, спросил четко выделяя каждое слово:
– В Си-би-рск е-дешь?
Ташка мотнула головешкой
– В Троицк? Березовск? Куда? – повысил он голос.
Девчонка оживилась, замычала радостно: «Да! Да! В Берёзовск!».
Торопливо замелькали руки, очень хотелось донести до него, что едет она к брату, далеко, очень-очень далеко.
Продолжение следует...
|